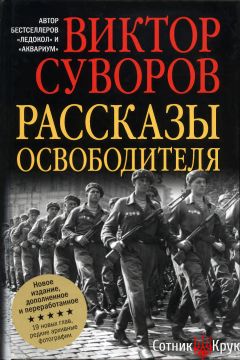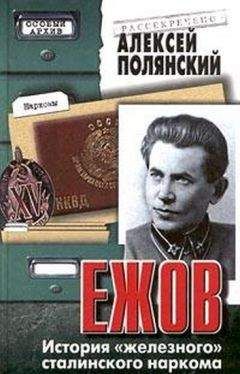Но если так легко прошлую жизнь сделать счастливой, то почему жизнь будущую не превратить в один яркий взрыв счастья? Надо просто отрицательные эмоции отметать. Надо просто о плохом не думать. Все будет хорошо. Надо только верить, что все будет хорошо. Надо только отрешиться от плохих воспоминаний. Надо только душу не пачкать мечтами о мести, надо злую память давить. Надо прощать людям зло. Надо его забывать. Смеется Настя над собою: многим ли она прощала, многих ли намерена прощать?
Бредет счастливая Настя. Со счета шагов не сбивается. Только каждый шаг все труднее достается. Помнит она счет шагам в каждом марафоне, только не помнит, сколько марафонов прошла, не помнит, сколько дней она идет. Перепутались дни и ночи. Потрескались губы, кожа на лице совсем тоненькая. Скулы под тоненькой кожей как каркас проступают. И ребра каркасом. Голод ее не мучит. И жажда не мучит. Удивляется Настя. Сколько энергии отдано продиранию сквозь орешники и малинники, сколько километров пройдено, должен бы голод проявиться. Не проявляется. Ну и хорошо.
5Некоторые думают, что власть Сталина — это самое страшное, что выпало на долю России. И осуждают мою героиню Настеньку Жар-птицу за то, что людей стреляет без трепета душевного.
Я не стал расстрелы в деталях описывать, а описания допросов полностью опустил. Но ясно без описаний: на допросах Жар-птица не праздным наблюдателем была, и на расстрелах — отнюдь не зрителем. Допрос и расстрел — работа.
На допросах и расстрелах Настя работала. Уверенно и спокойно. Отдавая себя работе полностью. Потому что власть Сталина не считала худшим вариантом.
В монастыре свободно Настя могла читать хоть Троцкого, хоть Бухарина, хоть Радека. Не запрещалось. Даже рекомендовалось. И висели фотографии вождей, которые врагами оказались. Настя на Троцкого часто смотрела. В глаза портрету.
А однажды на руки посмотрела. Большая фотография, спокойное лицо, свободное положение тела, руки на животе. А на пальцах — маникюр. Ногти товарища Троцкого длинны и ухожены, как ногти стареющей придворной красавицы.
Почему-то эти ногти Насте покоя не давали. Почему-то возненавидела она их. Предлагал товарищ Троцкий ликвидировать семью и собственность. Предлагал всех организовать в трудовые армии. Только не сказал товарищ Троцкий, кто этими трудовыми армиями будет командовать. И как-то пальцы холеные товарища Троцкого и его полированные длинные ногти не вязались с идеей трудовых армий. Или очень даже с этой идеей вязались. Просто закрыла Настя глаза и представила себе, что есть трудовая армия…
У товарища Сталина тоже есть трудовые армии. Они называются коротко и просто — ГУЛАГ. У товарища Сталина в трудовых армиях совсем мало людей. Никак не больше десяти процентов населения. А товарищ Троцкий предлагал — всех. У товарища Сталина трудовые армии только для перевоспитания. Каждый надежду таит оттуда вернуться. А товарищ Троцкий предлагал отправлять туда навсегда. Без всякой надежды. И ногти товарищ Сталин красным лаком не красит. Так что если попадались Насте иногда троцкисты, то она допрашивала их с особым пристрастием и стреляла с особой любовью.
Попадались ей и бухаринцы. Товарищ Бухарин был романтиком революции. Предлагал вывести новую породу людей. Путем расстрелов. Убивать плохих, чтобы остались только хорошие. Великолепная идея. Только кому-то надо будет решения принимать, кого стрелять, кого миловать. И получается сразу класс людей с абсолютной властью. И если романтика товарища Бухарина расстреляли, так ведь в соответствии с его же собственной идеей. Он-то себя считал хорошим, а поди докажи, что ты хороший.
Знала Настя, что будет, если власть возьмет товарищ Зиновьев, который считал только те структуры прочными, «под которыми струится кровь». Так товарищ Зиновьев и выражался публично и печатно.
И пока Сталин воевал против всяких Радеков и Каменевых, тихо поднялась над Россией жуткая тень капризного, трусливого, самовлюбленного, изнеженного, развращенного, предельно жестокого барина по фамилии Тухачевский. И рядом с Тухачевским — безграмотный Якир, заливший землю потоками крови невинных. Якир в каждом занятом коммунистами районе устанавливал процент мирного населения, которое подлежало истреблению.
И много еще было тех, кто пытался осчастливить человечество путем массовых расстрелов.
Спасти Россию — не допустить к власти Тухачевского — Сталин мог, только опираясь на Ежова. В борьбе против Тухачевского Сталин вынужден был дать Ежову почти абсолютную власть. И закружилась голова у товарища Ежова. И самого потянуло на власть. Он мог ее взять. И что бы тогда ждало Россию?
Понимала Настя, что повезло России. Понимала, что власть Сталина — не худший вариант. Без этой власти миллионы шакалов, выброшенные на гребень революцией, растерзают страну.
Понимала Жар-птица — бывает хуже. Занимала она скромный незаметный пост, и на этом посту, как тысячи других, делала все, что в человеческих силах, и сверх того, чтобы худшего не допустить.
Оптимисты думают, что жизнь — это борьба добра и зла. Ей жизнь не представлялась в столь розовом свете. Она знала, что жизнь — это борьба зла с еще большим злом.
6Бредет Настя.
На юг. На юг. На юг.
Идет рощами. Идет чахлыми перелесками. Идет степью. Ложится, когда кто-то на горизонте появляется.
Звенит голова от недосыпа. Знает: остановится — уснет.
Потому не останавливается.
Больше шагов Настя не считает. Решила идти не останавливаясь. Идти, идти, идти. Чувствует Настя, что с каждый днем она все легче становится. Почти невесомая. Один вопрос: если энергия расходуется и никак не пополняется, то на чем же она до 913-го километра дойдет?
И решила: на гордости.
7Бредет.
Мираж пред нею на полмира. Мост. Одним концом в берег упирается. Другим — в горизонт. Разъезд пустынный. Это 913-й километр. По откосу надпись: «Слава Сталину!»
Рельсы в осеннем мареве. Припекает солнышко, и плывут рельсы у горизонта. И поезд на плывущих рельсах дрожит и колышется. Желанный поезд. «Главспецремстрой». Он тут бывает по субботам. До двенадцати дня.
Где они, субботы? Потеряла Настя счет дням. И времени не знает. Давно разбила часы, давно остановились они, давно их бросила, чтоб руку не давили, чтоб лишнего веса не тащить. И «Люгер» давно бросила. Солдату в походе даже иголка тяжела. А тут «Люгер». Железяка чертова. По бедру все лупил, в Волге ко дну тянул. К чертям его, железного. Бросила — и легче идти. Давно бросила его. С ним не прошла бы такой путь. Ни за что не прошла бы.
Потрогала Настя место на бедре, где «Люгер» висел, удивилась: он все еще висит, зараза железная. Все хотела бросить, да так и не дошли руки. Как же она с такой тяжестью столько километров? Сама себе удивляется. А часов точно нет. По солнышку полдень вырисовывается. Жаль, по солнцу часы определять легко, а минуты — не очень. И если верить солнцу, то сейчас «Главспецремстрой» тихонечко двинется и покатит. И покатит. Быстро он разгоняется. Быстро за горизонт его уносит. Черт с ним. Разве жалко? Понимает Настя, что не настоящий это мост, не настоящий разъезд, не настоящий поезд. Не могла же она, больная, разбитая, дойти до магистрали. Не могла. Это выше человеческих сил. И не могла же она выйти к разъезду прямо в то время, когда «Главспецремстрой» тут стоит. Просто ей хочется дойти до магистрали. Хочется встретить поезд. Хочется войти в вагон и упасть. И спать. Не просыпаясь. Спать всегда. И пусть с нее снимут ботинки. Она никогда не будет больше ходить в ботинках.
Бредет.
В руки себя взять надо. Так надо идти, чтобы ботинки не цеплялись один за другой. Не цеплялись… Не цеплялись… Очень может быть, что мост и разъезд — вовсе не мираж. Очень может быть, что дошла она. И может, ей повезло, что дошла в тот момент, когда поезд тут стоит. В субботу до полудня. А может, товарищ Сталин прислал «Главспецремстрой» и приказал ждать, и ждать, и ждать. Ее ждать. Ждать, пока птичка не прилетит.
Но этого быть не могло. У поезда других дел много. И у других таких же поездов дел много. Вон какая страна, и всю ее контролировать надо. Может быть, суббота сегодня. Только вот в чем проблема: если она добредет до поезда, хватит ли сил по ступенькам вскарабкаться? Не хватит. Что тогда делать? Стучать кулаком по двери. А хватит ли сил стучать? Услышит ли ее кто? Ослабели руки. Это когда-то давно она в морду могла поднести мастеру Никанору. Теперь руки висят, как крылья у раненой птицы. Смешно: издыхающая Жар-птица. Может, самое время «Люгер» бросить? Легче станет. На целую тонну станет легче. Если опоздает на поезд, то упадет у рельсов, поспит минут десять, вернется в поле и «Люгер» найдет. Следующей субботы ей все равно не дождаться. Вот «Люгер» в самую пору ей и сгодится. Стрельнуть в себя. А если дойдет она до поезда и успеет в него забраться, то скажет, чтобы сбегали в поле да «Люгер» и подобрали. А сейчас без него легче будет. Легче. Будет совсем легко.
![Виктор Суворов - Контроль [Новое издание, дополненное и переработанное]](https://cdn.my-library.info/books/181579/181579.jpg)